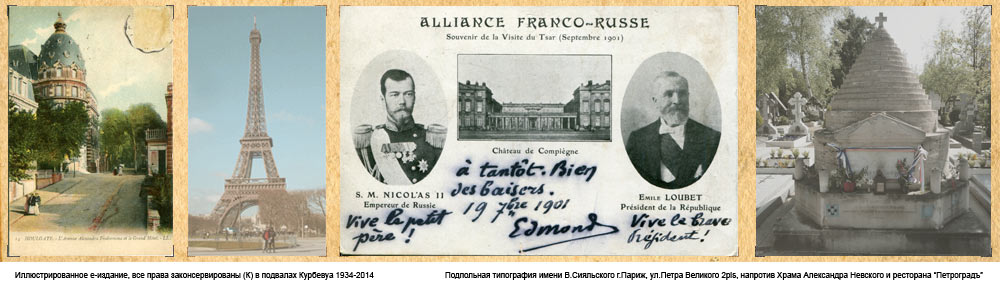Путеводитель и справочник «Русский Париж». Архивы эмиграции.
4-ая Уфимская стрелковая дивизия
«Уфимский Вестник»
13-й Уфимский стрелковый полк Народной Армии.
С момента падения в Уфе большевистской власти приступили к формированию 1-го Уфимского пехотного полка Народной армии, впоследствии переименованного в 13-й Уфимский стрелковый полк. Всеобщий подъем настроения, осознание гражданского долга, жажда подвига во имя спасения родины и свободы привлекли в 13-й полк чутких и сознательных граждан из всех слоев общества. В состав полка в настоящее время таков. Половина людей в полку – уже обученные, побывавшие на фронте солдаты, из которых много георгиевских кавалеров и раненых по нескольку раз. ¼ часть полка состоит из добровольцев, бывших офицеров, а одна рота исключительно из учащейся молодежи: студентов и учеников учебных заведений (из 6, 7, 8 класса). Командующий состав очень молодой. К кадровому офицерству принадлежат: командир полка, командиры батальонов и часть ротных командиров.
Командир полка, Гавриил Иванович Сахаров – боевой офицер, прослуживший всю войну (примечание Первую Мировую) в строю. Свою карьеру Г.И. Сахаров начал в Уфе в 1908 году, когда он по окончанию Тифлисского военного училища, был назначен в Златоустовский батальон. На войну Г.И. Сахаров выступил в 1914 году в чине поручика, причем ему было поручено командование батальоном. При Керенском он командовал батальоном смерти 48 дивизии. Последний год Г.И. Сахаров провел на Румынском фронте, в должности командира 190 Очаковского полка. Закончил службу на фронте Г.И. Сахаров лишь тогда, когда по приказанию главнокомандующего генерала Щербачева части Румынского фронта были расформированы. За время войны Г.И. Сахаров был дважды ранен, получил все награды до Владимира 4-й степени включительно и произведен в чин полковника.
Работа полка.
2/3 полка уже отправлены в разные пункты фронта, оставшаяся часть все время в работе по гарнизонной службе. Обучение добровольцев в полку идет очень успешно. Занятия начинаются с 8 часов утра и продолжаются в общей сложности по 7 часов в сутки. Курс обучения рассчитан на 1 месяц. В программу занятия входит: изучение устава, строевой, полевой и гарнизонной службы, окопного стрелкового дела и гимнастика. Большая часть времени уходит на изучение того, что необходимо для боя: строевой службы и стрелкового дела; видное место занимает и гимнастика, которая укрепляет тело и втягивает людей в физическую работу. В приказе командира полка ставится на вид, что гимнастика должна «вестись весело, с увлечением, по спортсменски». При обучении солдат главной задачей начальника является не создание безжизненного автомата, а воспитание дисциплинированного, доброго, самостоятельного бойца, сознающего всю важность лежащих на нем обязанностей. Только с таким солдатом возможна работа в современной войне и только с таким солдатом возможна победа.
Дисциплина.
На создание и поддержание в полку твердого внутреннего порядка обращено самое серьезное внимание. Основой дисциплины служит взаимное доверие и уважение начальников и подчиненных.
Начальник, отдав приказание должен добиться его исполнения, отвечая за законность приказания. Каждый подчиненный обязан без возражений выполнять приказание. Нарушивший порядок службы или совершивший проступок подлежит товарищескому дисциплинарному суду, который избирается в каждой роте в составе 3 человек. В походе, в бою дисциплинарная часть принадлежит исключительно начальнику. Вне службы все равны. «Служба начинается с отдания приказа или команды и кончается выполнением приказания или команды». Обращаются все друг к другу на «Вы». Для развития идеи гражданского равенства. «Временные правила о службе» предписывают начальнику при обращении к подчиненному говорить: «Гражданин такой-то (фамилия)». Подчиненный, обращаясь к начальнику, говорит: «Гражданин (называется чин, должность)». При обращении начальника с приветствием к подчиненным, последние отвечают: «Здравствуйте гражданин (чин или должность)». Отдание чести не ставится в обязанность, но все уфимского стрелкового полка приветствуют своих начальников. Все находящиеся на службе в народной армии носят на фуражке кокарду из Георгиевской ленточки, как символ особого мужества. На опрятность одежды обращается внимание, так как частота и порядок в одежде – верный признак дисциплинированности.
Материальные условия службы.
На основании «Временных правил», учрежденных Комитетом членов Учредительного Собрания, в Народную армию принимаются все граждане России не моложе 17 лет. Минимальный срок службы- 3 месяца. Все добровольцы состоят на полном содержании, получают жалование, суточные, пособие на содержание семьи, а в случае увечья- пенсию.
13-й Уфимский стрелковый полк размещен в здании Духовной Семинарии и Епархиального женского училища. Отлучаться из полка можно только в известное время и каждый раз по особому разрешению начальника.
Фото: группа чинов 13 Уфимского стрелкового полка в районе Уфы, 1919 год. (Личный архив полковника Г.К. Сидамонидзе)
В центре снимка находится штабс-капитан Сидамонидзе Г.К.
Униформа: у офицера справа четко видны шифровки «13»
Справка из работы поручика Б.Б. Филимонова «Белая армия адмирала Колчака»
4-ая Уфимская стрелковая дивизия
1-ый Начальник дивизии: Генерал-Лейтенант Люпов сторонник полнейшей демократизации армии. Заметим, что он долго задерживался с признанием переворота 18-го Ноября (Адмирал Колчак), почему, надо полагать, и был принужден оставить свой пост.
Начальником Штаба формирований Народной Армии Уфимской губернии был Генерального Штаба Полковник Пучков, позднее он принял 8-ую Камскую стрелковую дивизию.
2-ым Начальником дивизии был старый Полковник 190-го пехотного Очаковского полка.
Комендантом Уфы сразу же после переворота был Полковник Моисеев.
4-ая Уфимская стрелковая дивизия:
Начальники дивизии:
1-ый — Генерал-Майор … (смотри выше)
2-ой — Полковник Косьмин, затем Генерал-Майор (ушел на Комкор Уральского на реке Икк)
3-ий — временно Командующий — Генерал-Майор Сахаров, Гаврила
4-ый — Полковник Слотов
5-ый — Генерал Токмачев
6-ой — Генерал-Майор Петров
7-ой — временно Командующий — Полковник Карпов (в Сибирском Походе)
Начальники Штаба дивизии:
1-ый — …
2-ой — Штабс-Капитан (потом — Полковник) Ивановский — прибыл с Косьминым и дошел до Читы, был все время.
Косьмин — офицер Гренадерского (Московского?) полка.
13-ый Уфимский стрелковый полк состоял из Уфимской интеллигенции.
14-ый Уфимский стрелковый полк имел в своих рядах гораздо меньше интеллигенции.
15-ый Михайловский стрелковый полк состоял сплошь из крестьян Михайловской волости.
16-ый Татарский стрелковый полк был мусульманским полком.
Командир 16-го полка — … , Георгий Иванович. Помощник Командира 16-го полка — татарин Полковник Бекмеев.
Под Красноярском в 14-ом полку был устроен митинг, на нем усиленно говорил Поручик Скрипов, сын богатейшего Уфимского купца:
— Куда нас ведут, пойдем назад в родные края, — и т.п.
Полк целиком ушел в Красноярск и сдался.
13-ый Уфимский стрелковый полк
Командиры: —
1-ый — Полковник Сахаров Гаврила (ранен под Стерлитамаком в конце Июля 1918 года)
2-ой — Капитан Карпов
3-ий — Полковник Сидамонидзе
Сахаров Гаврила — офицер Очаковского полка 48-ой пехотной дивизии.
Полк вначале состоял из Уфимской интеллигенции, будучи пополненным и развернутым, состоял на 1/2 из русских и 1/2 башкир. Был хорошим, боеспособным полком.
Под Красноярском из 2-ой роты ушла часть, всего ушло сдаваться до 100 человек. Байкал перешло 500 солдат и 72 офицера.
14-ый Уфимский стрелковый полк
Командиры: —
1-ый — формировал полк Полковник Бырдин (имел прозвание “Пшеничников”)
2-ой — Подполковник Слотов
3-ий — Подполковник Модестов
Полк состоял из само мобилизовавшихся крестьян волости Тастуба — полного боевого состава. Прекрасный полк, как в боевом, так и строевом дисциплинарном порядке.
Полк остался под Красноярском целиком. За комполка — 300-400 человек. Пошло с белыми 12 офицеров и 3 — 4 вестовых.
15-ый Михайловский стрелковый полк
Командиры: —
1-ый — Поручик …
2-ой — Капитан Егоров
Капитан Егоров пришел на полк перед наступлением в Ново-Троицкое.
Полк состоял из партизан, был прекраснейшего боевого качества, но был плохо дисциплинирован, в нем было много горно-заводских рабочих. С полком всегда ехали и семьи солдат и офицеров — татар.
16-ый Уфимский татарский полк
Командиры беспрестанно менялись: —
1-ый — Прапорщик Еникеев
2-ой — Капитан Давлетов (ранее — земский начальник)
3-ий — Подполковник Курушкин (хороший командир полка)
4-ый — Полковник Павлович
5-ый — Полковник Недоспасов (или Недоспелов) — довел до Читы
Полк распылился. Осталось 30 человек.
Артиллерия 4-ой Уфимской дивизии
Вначале — с Июля 1918 года —
4-ый отдельный Уфимский легкий артиллерийский дивизион (3, потом — 4 батареи)
Потом — с конца Ноября 1918 года —
4-ая Уфимская легкая артиллерийская бригада (Уфимский и Казанский дивизионы)
После этого — на Тоболе, в 1919 году —
4-ый Уфимский легкий артиллерийский полк (3 легких, 1 гаубичная батареи)
Наконец — погиб под Кемчугом —
4-ый Уфимский легкий артиллерийский дивизион (3 легких, 1 гаубичная батареи)
Начальники артиллерии дивизии: —
1-ый — Полковник Кун Вячеслав
В 1897 году окончил Сибирский Кадетский Корпус. В 1900 году окончил Константиновское училище. Офицер 3-ей легкой артиллерийской бригады (Калуга). До переворота служил в Советском учреждении в Уфе.
2-ой — Полковник Романовский Владимир
Офицер Кронштадтской крепостной артиллерии, с 1914 года — “Тяжелый Мортирный полк”, потом — “Осадная артиллерийская бригада”, в 1917 году бригада разделилась на отдельные дивизионы “2-ой Отдельный Осадный артиллерийский дивизион”, в 1917 году — на Румынском фронте, на Дунае.
Кун командовал до Чишмы, потом уехал, вернулся назад и отходил до Тобола, после этого уехал в Иркутск, в отпуск, и не вернулся.
4-ый Уфимский артиллерийский дивизион
1-ая батарея — Штабс-Капитан Липинг.
Латыш, лет 26, в офицеры произведен в военное время из вольноопределяющихся, служил ранее в 3-ей Сибирской стрелковой Артиллерийской бригаде.
Старший офицер — Поручик Красовский (Константиновское Артиллерийское училище).
2-ая батарея — Гвардии Капитан Цылов Сергей Николаевич.
Лет 30 — 32, Михайловское Артиллерийское училище в 1908 году, офицер Лейб-Гвардии стрелкового артиллерийского дивизиона.
Старший офицер — Штабс-Капитан Аккерман.
3-ая батарея — Капитан Штегман
Лет на 6 старше Романовского, окончил Павловское Военное училище и выпущен по артиллерии в 1897-1898 годах. Потом вышел (в запас) и был Земским Начальником. Во время Германской войны — в Запасной батарее.
Старший офицер фактически командовал батареей — Поручик Гласко Николай Антонович.
В конце Марта 1919 года Капитан Штегман ушел из дивизиона, батареей временно командовал Поручик Гласко, 80-ой артиллерийской бригады, но в конце Июля 1919 года он уехал в Омск, в Артиллерийское училище.
Батарею принял — Штабс-Капитан Чанышев.
4-ая Гаубичная батарея имени Майора Благочича прибыла из Казани в конце Сентябре — начале Октября 1918 года.
Капитан Плюмме, лет 30, кажется, окончил Павловское Военное училище, в Германскую войну служил в Гаубичной батарее — прекрасный офицер.
В этой батарее служил также Подпоручик Лукницкий.
В Мае 1919 года, при отходе, не доходя до Чишмы, батарея ночевала в Белебеевском уезде в какой-то деревне. Ночью напали красные, запрягли упряжки, но два орудия застряли в трясине и их потеряли (кажется, это было с 16-ым Уфимским полком). Плюмме хотел стреляться.
В каждой батарее было по 5 — 7 человек офицеров, то есть полный штат четырех-орудийной батареи времени Адмирала Колчака. Все офицеры были, как припоминает Полковник Романовский, — артиллеристами, и только во 2-ой батарее был один пехотный офицер, который, впрочем, быстро “смотался”.
Прапорщик Прокофьев Андрей Алексеевич, был офицером Казанской Запасной батареи.
Первые три батареи и Управление дивизиона были пополнены мобилизованными — солдатами из Белебеевского уезда. Их было полное штатное число, и в Управлении дивизиона было даже сверх штата — до 150 человек. Заметим, что 1-ая батарея была добровольческая, а 2-ая и 3-ая батареи состояли из мобилизованных. И вот, в одну ночь в 3-ей батарее сбежало 1/2 батареи, одновременно удрало и из Управления дивизиона до 50 человек. Оставшиеся служили верой и правдой до конца. Никаких заговоров, перебежек к красным и подозрительных случаев в дивизионе не было совершенно.
После бегства означенной выше партии было произведено уравнение по батареям, и в каждой оказалось по 150 — 170 человек солдат.
В Июле 1918 года начал формироваться дивизион — “Уфимский легкий артиллерийский”. В 1-ой батарее было вначале только 2 Макленки, но в Августе 1918 года, по взятии белыми Казани, туда был направлен Подполковником Романовским офицер, который и привез вскоре в Уфу для дивизиона совершенно новеньких 12 трехдюймовых орудий, образца 1902 года, и соответствующее количество зарядных ящиков. Таким образом, в каждой из батарей оказалось по четыре орудия.
В ноябре 1918 года, по прибытии трех Казанских батарей, Уфимский дивизион был развернут в “4-ую Уфимскую легкую артиллерийскую бригаду”: —
1-ый дивизион — Подполковник Романовский,
2-ой дивизион — “Казанские” батареи, они были поставлены в резерв в Саткинский Завод. Батареи — по четыре орудия 1902 года каждая. По своему составу 2-ой дивизион был слабее 1-го (мнение Полковника Романовского). Среди офицеров там попадали пехотинцы, и вообще это была молодежь.
4-ая батарея — Штабс-Капитан Ипатьев
5-ая батарея — … …
6-ая батарея — Капитан Аристов
Капитан Аристов, лет сорока пяти, был старым офицером, и он же командовал временно дивизионом, так как Полковник Козловский, который был назначен Командиром этого дивизиона, так и не прибыл.
На реке Тоболе 4-ая Уфимская легкая артиллерийская бригада была переформирована в полк — три легких и одна гаубичная батареи.
Полковник Кун назначен Командиром полка.
Полковник Романовский — Командиром дивизиона.
При бригаде и при полку имелся артиллерийский парк. Его Командир — старый Капитан Брусянин (лет на шесть старше Романовского).
2-ой дивизион был расформирован, вероятно, он был придан по батареям в разные дивизионы, которые были слабы в личном составе и материальной части.
После прохода на восток от Ново-Николаевска, Полковник Романовский, временно командовавший полком с самого Тобола, уехал вперед, за своей семьей, находившейся в Томске. Во временное командование полком вступил Подполковник Цылов, Командир 2-ой батареи.
Под Кемчугом вся артиллерия попала в руки красных, так как пехота ушла вперед — брать Красноярск.
Из чинов 4-го Уфимского легкого артиллерийского полка спаслись лишь те, что находились вне его рядов, а именно: —
Полковник Романовский, ехавший самостоятельно и присоединившийся к Уфимской Группе лишь в …
Подполковник Цылов, следовавший со Штабом Уфимской дивизии
Штабс-Капитан Беляев, Начальник Связи, следовавший с Подполковником Цыловым
Подпоручик Бедняков Юрий (из Гаубичной батареи). Он был больным и находился в эвакуации. Ехал с Полковником Романовским от Томска.
2-ой Уфимский стрелковый артиллерийский дивизион, который стал формироваться в Чите в Марте 1920 года, был, таким образом, совершенно новой частью, и его личный состав, за исключением нескольких случайных офицеров, был совершенно чужд “старому” 4-му Уфимскому легкому артиллерийскому дивизиону, бригаде и полку.
Из Уфимских батарей самой дружной была 2-ая батарея, потом надо считать Гаубичную. Самой же слабой являлась 3-ая батарея.
1-ая батарея ходила, обычно, с 13-ым полком
2-ая батарея ходила, обычно, с 14-ым полком
3-ая батарея ходила, обычно, либо с 15-ым, либо с 16-ым полками, но в конце концов, из-за постоянных “неустоек”, 16-му полку перестали доверять батарею. Надо полагать, это было после потери двух гаубиц.
На Тоболе временно к 4-му Уфимскому легкому артиллерийскому полку был прикомандирован Тяжелый дивизион под командой Подполковника Мельницкого Бориса (позднее фигурировавшего в эмиграции под фамилией Меленецкого). Это Псковский кадет по образованию.
Когда Каппелевская Армия проходила мимо Иркутска, то по ней вела редкий огонь Народно-Революционная Артиллерия. Начальником ее был Штабс-Капитан Чанышев, бывший офицер 4-го Уфимского легкого артиллерийского дивизиона и Командир 3-ей батареи. Писарем у него в Управлении служил бывший Начальник Уфимской артиллерии Полковник Кун, а вестовым был племянник самого Чанышева — Прапорщик Еникеев. Так передавал, по крайней мере, руссин, служивший ра-нее в Уфе в дивизионе.
Продолжение следует…