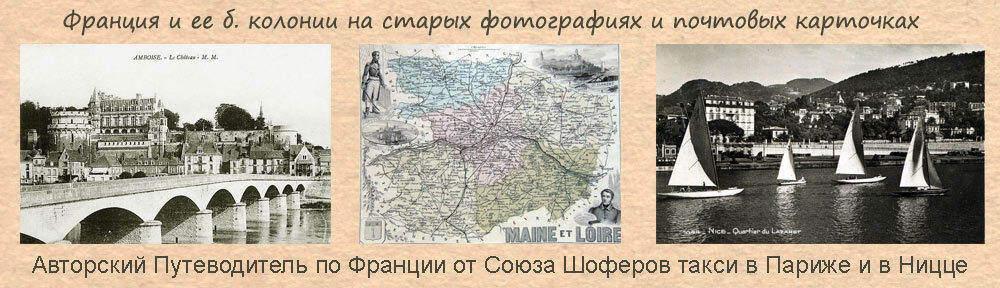История создания и структура
Создана в Новочеркасске из Алексеевской организации. Первые добровольцы, прибывшие с генералом Алексеевым 2 ноября 1917 года, были поселены в лазарете № 2 в доме № 39 по Барочной улице, представлявшем собой замаскированное общежитие, который и стал колыбелью Добровольческой армии.
4 ноября 1917 года была образована Сводно-Офицерская рота. В середине ноября (тогда имелось 180 добровольцев) была введена официальная запись в Алексеевскую организацию. Все прибывшие регистрировались в Бюро записи, подписывая особые записки, свидетельствующие об их добровольном желании служить и обязывающие их сроком на 4 месяца. Денежного оклада первое время не существовало. Все содержание сначала ограничивалось лишь пайком, затем стали выплачивать небольшие денежные суммы (в декабре офицерам платили по 100 рублей в месяц, в январе 1918 — 150, феврале 270 руб.). В среднем в день приезжало и записывалось в ряды армии 75-80 добровольцев. Первое время в приеме добровольцев играли заметную роль полковники: братья кн. Хованские, бежавшие из Москвы К.К. Дорофеев и Матвеев, Георгиевского полка И.К. Кириенко и кн. Л.С.Святополк-Мирский. Добровольцев сначала направляли в штаб (Барочная, 56), где распределяли по частям (этим руководил сначала полк. Шмидт, а затем полк. кн. Хованский; определение на должности генералов и штаб-офицеров оставалось в руках начальника гарнизона Новочеркасска полк. Е. Булюбаша).
Во второй половине ноября 1917 года Алексеевская организация состояла из трех формирований:
- Сводно-офицерской роты,
- Юнкерского батальона и
- Сводной Михайловско-Константиновской батареи,
- кроме того, формировалась Георгиевская рота и шла запись в студенческую дружину.
В это время офицеры составляли треть организации и д 50% — юнкера, кадеты и учащаяся молодежь — 10%. Первый бой произошел 26 ноября. у Балабановой рощи, 27-29-го сводный отряд полк. кн. Хованского (фактически вся армия) штурмовал Ростов и 2 декабря город был очищен от большевиков. По возвращении в Новочеркасск было произведено переформирование. К этому времени численность организации сильно возросла (доброволец, прибывший 5 декабря., свидетельствует, что его явочный номер был 1801-й). С прибытием 6 декабря в Новочеркасск Л.Г. Корнилова и других “быховцев” Алексеевская организация окончательно превратилась в армию. 24 декабря 1917 года. был объявлен секретный приказ о вступлении в командование ее силами ген. Корнилова, а 27 декабря ее вооруженные силы были официально переименованы в Добровольческую Армию. В воззвании (опубликованном в газете 27 декабря) впервые была обнародована ее политическая программа. В руках генерала Алексеева осталась политическая и финансовая часть, начальником штаба стал генерал Лукомский, генерал Деникин (при начальнике штаба генерале Маркове) возглавил все части армии в Новочеркасске; все остальные генералы числились при штабе армии. 27 декабря 1917 года армия перебазировалась в Ростов.
До выступления в 1-й Кубанский поход армия состояла из ряда соединений, которые почти все были преимущественно офицерскими. Это были: 1-й, 2-й и 3-й Офицерские, Юнкерский и Студенческий батальоны, 3-я и 4-я Офицерские, Ростовская и Таганрогская офицерские, Морская, Георгиевская и Техническая роты, Отряд генерала Черепова, Офицерский отряд полковника Симановского, Ударный дивизион Кавказской кавалерийской дивизии, 3-я Киевская школа прапорщиков, 1-й кавалерийский дивизион, 1-й Отдельный легкий артиллерийский дивизион и Корниловский ударный полк.
Отрядом из сводных рот этих частей командовал с 30 дек.1917 на Таганрогском направлении полковник А.П. Кутепов (см. Отряд полковника Кутепова).
9 (22) февраля 1918 года Добровольческая армия выступила из Ростова в свой легендарный 1-й Кубанский (“Ледяной”) поход на Екатеринодар. Численность ее составляла 3683 бойца и 8 орудий, а с обозом и гражданскими лицами свыше 4 тысяч.
В самом начале похода в станице Ольгинской Добровольческая армия, состоявшая до того из 25 отдельных частей, была реорганизована (батальоны превратились в роты, роты — во взводы) и стала включать:
- Сводно-Офицерский,
- Корниловский ударный и
- Партизанский полки,
- Особый Юнкерский батальон,
- 1-й легкий артиллерийский дивизион,
- Чехословацкий инженерный батальон,
- Техническую роту,
- 1-й кавалерийский дивизион,
- Конный отряд полковника Глазенапа,
- Конный отряд подполковника Корнилова,
- Охранную роту штаба армии,
- конвой командующего армией и
- походный лазарет (доктор Трейман).
Вскоре после соединения 14 марта 1918 с Кубанским отрядом армия была переформирована. В 1-ю пехотную бригаду (ген. Марков) входили Сводно-Офицерский и Кубанский стрелковый полки, 1-я Инженерная рота, 1-я и 4-я отдельные батареи, во 2-ю (ген. Богаевский) — Корниловский и Партизанский полки, Пластунский батальон (кубанский), 2-я инженерная рота (кубанская) и 2-я, 3-я и 5-я отдельные батареи, в конную бригаду — Конный (см. 1-й конный генерала Алексеева) и Черкесский полки, Кубанский конный дивизион (полк) и конная батарея (кубанская).
В начале июня 1918 года, после присоединения к армии (27 мая 1918 г.) Отряда полковника Дроздовского, перед выступлением во 2-й Кубанский поход, она включала 1-ю 2-ю и 3-ю пехотные и 1-ю конную дивизии, 1-ю Кубанскую казачью бригаду и не входившие в состав дивизий Пластунский батальон, 6-дюймовую гаубицу, радиостанцию и 3 броневика (“Верный”, “Доброволец” и “Корниловец”).
В ходе 2-го Кубанского похода были сформированы 1-я и 2-я Кубанские казачьи дивизии и Пластунская бригада (ген. Гейман). В армии существовали также Отдельная Кубанская казачья бригада, 1-й Ставропольский офицерский полк, Солдатский полк, 1-й Астраханский добровольческий полк, 1-й Украинский добровольческий полк и другие части.
В ноябре 1918 года 1-я и 2-я пехотные дивизии были развернуты в 1-й и 2-й армейские корпуса, сформированы 3-й армейский и 1-й конный корпуса.
В декабре 1918 года в составе армии были созданы Кавказская группа, Донецкий, Крымский и Туапсинский отряды. В Крыму с конца 1918 формировалась также 4-я пехотная дивизия.
К началу 1919 года Добровольческая армия состояла из пяти корпусов (1-3 армейские, Крымско-Азовский и 1-й конный) включавшие 5 пехотных и 6 конных дивизий, 2 отдельные конные и 4 пластунские бригады.
В феврале 1919 года создан 2-й Кубанский корпус, а в состав 1-го и 2-го корпусов вошли переданные Донским атаманом части бывших Астраханской и Южной армий.
10 января 1919 года, с образованием на базе Крымско-Азовского корпусаКрымско-Азовской Добровольческой армии, получила наименование Кавказская Добровольческая армия, а 2 мая 1919 была разделена на Добровольческую (в составе ВСЮР) и Кавказскую армии.
Добровольческая Армия (потеряв несколько тысяч человек за время с ноября 1917 до февраль 1918) вышла в 1-й Кубанский поход в числе (по разным данным) 2,5-4 тыс., присоединившиеся к ней кубанские части насчитывали 2-3 тыс., вернулось из похода около 5 тыс., отряд Дроздовского в момент соединения с армией насчитывал до 3 тыс.
В итоге весной 1918 армия насчитывала около 8 тысяч человек. В начале июня, она выросла еще на тысячу чел. К сентябре 1918 года в армии было 35-40 тыс. штыков и сабель, в декабре в действующих войсках было 32-34 тысяч и в запасных, формирующихся частях и гарнизонах городов — 13-14 тысяч, т.е. всего около 48 тыс. чел.
К началу 1919 года она насчитывала до 40 тыс. штыков и сабель, 60% которых составляли кубанцы. В отношении добровольцев армия была связана контрактом (первый период контракта для старых добровольцев закончился в мае, второй — в сен., третий — в дек.). Однако 25 окт.1918 был издан приказ № 64 о призыве в армию всех офицеров до 40 лет. При этом освобождавшимся из армии добровольцам предлагалось либо подвергнуться призыву, либо покинуть территорию армии в семидневный срок. 7 дек. приказом № 246 четырехмесячные контракты были окончательно упразднены.
Наиболее тяжелые (относительно своей численности) потери армия несла в течение 1918, т.е. именно тогда, когда офицеры составляли особенно значительную ее часть. Учитывая, что за время с начала формирования в армию поступило свыше 6000 чел., а при оставлении Ростова число бойцов не превышало 2500, можно считать, что она потеряла не менее 3500 чел. В 1-м Кубанском походе погибло около 400 чел. и вывезено около 1500 раненых. После отхода от Екатеринодара на север около 300 чел. было оставлено в ст. Елизаветинской (все добиты преследователями) и еще 200 — в Дядьковской. Не менее тяжкие потери понесла армия и во 2-м Кубанском походе (в некоторых боях, например, при взятии Тихорецкой, потери доходили до 25% состава), и в боях под Ставрополем. В отдельных боях потери исчислялись сотнями и даже иногда тысячами убитых. 26 дек.1918 армия вошла в состав Вооруженных Сил Юга России (ВСЮР). С 10 янв.1919 (с выделением из нее Крымско-Азовской Добровольческой армии) именовалась Кавказской добровольческой армией. 8 мая 1919 была разделена на Кавказскую армию и Добровольческую армию.
Добровольческая армия, командование.
Верховный руководитель — ген.-инфантерии М.В. Алексеев.
Командующие:
- генерал-от-инфантерии Л.Г. Корнилов,
- генерал-лейтенант А.И. Деникин (31 марта- 27 дек.1818),
- ген.-лейт. бар. П.Н. Врангель (27 дек.1918 — 8 мая 1919).
Начальник. штаба:
- ген.-лейтенант И.П. Романовский,
- ген.-лейт. Я.Д. Юзефович (врид; с 1 янв.1919),
- ген.-майор П.Н. Шатилов (до мая 1919).
Фотолетопись
- автомобиль с водителем ВСЮР
Фото -летопись гражданской войны. Добровольческая армия и ВСЮР
Увеличенный фрагмент фото из альбома «Екатеринодар- Ростов- Харьков — Каменноугольный бассейн- Курск» (альбом «Корниловцы«)
Харьков, 1919 год. Смотр корниловцев командующим Добровольческой армией (? отрядом) генерал-лейтенантом Владимиром Зеноновичем Май-Маевским. Полковник Скоблин, командир 1-го Корниловского ударного полка (? до или после формирования 2-го Корниловского ударного полка) отдает рапорт командующему. Скоблин одет в черную корниловскую форму с черно-красной фуражкой и нарукавной эмблемой.
Автомобиль командующего.
На автомобиле в двух местах виден номер 1458 или 1498, а также флажок командующего на капоте. Обратите внимание на большие и малые фары.
Водитель и видимо помощник (офицер, не денщик и не адъютант- Макаров, который виден справа от Май-Маевского)
Добровольческая Армия и Белое движение
Кто мы? Куда мы идем? Что было у нас в прошлом? На это мы должны дать ответ. Нас называют белыми. Когда, кто первый назвал этих подростков с винтовкою в руках, шедших по грязи в степи, в стужу, в рваных сапогах, с холщовой сумкой через плечо, белыми? За что? За то ли, что они были белыми? За то ли, что белая мечта влекла их за собою, а когда она гасла, они слабели и падали? Враги называют нас белыми. История сохранит это имя за нами. Мы чувствуем, что самое имя наше накладывает на нас свой долг. Мы должны стать белыми. Слишком велика была наша белая мечта. Слишком велики страдания там, в России. Слишком много вложили мы в белое дело, чтобы отступить от него. Мы одиноки, как были одиноки те три тысячи кубанского похода, затерянные в степи среди незнающих, непонимающих, чуждых им и враждебных людей. Нас немного. Но с нами все те, кто был в наших рядах к положил душу за белую мечту. И мы чувствуем что в нас есть сила большая ,чем мы сами.
На эти вопросы постараюсь ответить, как могу. У белых есть горячие защитники, есть и противники, есть и непримиримые враги. Недавно в печати Ильин говорил о белой армии ,о государственном ее значении. Появились возражения и ответные статьи. В Париже Милюков тоже вопросу о белом движении посвятил обширный доклад, вызвавший точно также многочисленные возражения. Вопрос этот, видимо, волнует многих. И хотя Милюков уже давно считает нас мертвыми, но забыть нас не может. И сейчас вновь обращается к нам, как если бы мы стали опять живыми. Он даже сделал признания, которых раньше не делал, и сказал слова, которых не говорил. «Не надо разрывать с белым движением», сказал Милюков, а прежде он говорил: «оставим мертвым хоронить мертвых». Он признал, чего раньше, во всяком случае, открыто не признавал: «белым движением засвидетельствована верность дисциплине, долгу, праву, морали, религии, идее государственности». Он представил исторический обзор всего белого движения, откуда оно пошло и чем оно стало. Постараемся и мы от белой мечты перейти к белой действительности. «Укажу сразу, говорит Милюков, на причины неудачи белого движения, при отсутствии которых белое движение вполне могло бы удаться. Основных причин три: 1) недостаточная и несвоевременная, руководимая узко-корыстными соображениями помощь союзников; 2) постепенное усиление реакционных элементов в составе движения; 3) как последствие второй причины, разочарование народных масс в белом движении». Укажу и я с своей стороны сразу на внутренние причины неудачи белого движения. Относительно первой причины, указанной Милюковым, спора нет. Вторая и третья неверны. Белое движение не завершилось победой потому, что не сложилась белая диктатура, а помешали ей сложиться центробежные силы, вздутые революцией, и все элементы, связанные с революцией и не порвавшие с ней. Вот где внутренняя причина неудачи белого движения. Так же, как и Милюков, я постараюсь взглянуть на прошлое, чтобы понять настоящее. Революция произошла внезапно, столь внезапно, что даже сами участники не поняли, что они совершили. Все были захвачены событиями врасплох. Но психологический перелом — революция в умах — совершился еще ранее февральских дней в Петербурге. Революция была порождена войной. Она вытекла из психологических потрясений в народных массах, из патриотических, войною вызванных, настроений общественных верхов. Революция выразилась в выступлениях Государственной Думы ,носивших революционный характер, против правительственной власти в лице министерства Штюрмера, Протопопова, Щегловитова, подчиненных темным закулисным влияниям, в целом ряде протестующих заявлений общественных организаций и даже дворянских собраний. Дух недовольства и протеста проник в широкие общественные круги, проник в придворные сферы к даже в самую Императорскую Семью. Первым выстрелом революции был выстрел Пуришкевича, и первой кровью была кровь Распутина.
Вот почему волнения в Петербурге, поводом для которых послужил недостаток продовольствия, внезапно превратились в крупнейшее событие в русской истории. Правительственная власть пала, потому что никто не хотел ее защищать.
Государственная Дума в лице ее председателя и временного комитета пошла навстречу и своим авторитетом поддержала революционное движение. Это имело решающее значение — бунт превратился в государственный переворот.
Отречение Государя от престола последовало после отзывов всех главнокомандующих, признавших его необходимость. Признание же необходимости отречения вытекло из убеждения, что только при этом можно довести войну до победного конца. «Судьба России, честь геройской Нашей армии, благо народа, все будущее дорогого Нашего Отечества требуют доведения войны во что бы то ни стало до победного конца», заявил Государь в своем отречении.
«В эти решительные дни в жизни России почли мы долгом совести облегчить народу нашему тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы, и в согласии с Государственной Думой признали Мы за благо отречься от престола Государства Российского и сложить с Себя Верховную власть».
Монархия не была низвергнута. Монархия сама ушла, доверив судьбу России и выполнение главной национальной задачи — окончание войны — новой власти.
Что же это была за новая власть, принявшая бразды правления огромной Российской Империи в столь трудное и столь ответственное время? Временное правительство, законно воспринявшее власть из рук последнего Императора Михаила Александровича, не было правительством, это была группа частных лиц. Они не умели управлять, не понимали, что такое власть, и не поняли всей ответственности, на них возложенной. Временное Правительство образовалось по соглашению членов комитета Государственной Думы с советом рабочих и солдатских депутатов. Оно вступило во власть, подписав обязательства, и сразу же подпало под контроль революционной группы, стремившейся вырвать из слабых рук прерогативы правительственной власти. Подписав обязательство не уводить из Петрограда гарнизон взбунтовавшихся запасных батальонов, временное правительство капитулировало перед революцией. Государственная Дума вступила на революционный путь и возглавила переворот в Петрограде из патриотического побуждения, ради дела войны. К этому течению присоединились общественные круги, патриотически настроенные. Государственной Думе доверились главнокомандующие армиями. Отречение Государя последовало ради той же цели скорейшего достижения победы. К все оказались обманутыми. Нельзя было служить двум господам — революции и войне. К временное правительство предало дело войны ради революции. Обольщение миражом революции было велико. Революция представлялась великой и бескровной. Никто не предвидел ее ужасного конца. Временное правительство боялось отстать и спешило опередить революционное движение. Вся революция была сделана сверху. Достаточно указать на один факт: преступники были выпущены из тюрем, а вся полиция снята и отправлена на фронт. Мало того, росчерком пера была разрушена вся администрация, все общественные учреждения, земские и городские, весь порядок управления. Не знаю, если бы в Париже или в Лондоне правительство предприняло что-либо подобное, могла ли бы устоять даже столь прочно сложенная западно-европейская цивилизация. У нас все это произвели, не поняв даже, что делают. Началась политика демагогии, политика публичных выступлений, митингов, речей без конца, деклараций, обещаний, посулов: крестьянам — земли, рабочим — восьмичасового рабочего дня, демократическим кругам — свобод, окраинам — автономии. Все было пущено в ход для заманивания народных масс.
Но главное — для революционной власти нужно было овладеть армией; ее боялись, как силы реакции, способной в случае победы задавить революцию. Боялись высшего командного состава, боялись офицерства. В них видели угрозу для себя.
Вот почему началась та же демагогия и в армии. Демократизация армии, «права солдата и гражданина», вся эта демагогия со всеми комитетами, комиссарами, митингами, заигрыванием с солдатской массой и натравливанием на офицерство и разложила в конец русскую армию. Это было тем более возмутительно, что офицерство сохраняло полную лояльность. Временное Правительство получило свои полномочия от Государя. Оно было законной властью. И ему повиновались, как привыкли повиноваться военные. Тщетно и напрасно боролся генерал Алексеев, тщетно подымал свой голос генерал Деникин, тщетно протестовали генералы Драгомиров, Гурко и другие. Их заподазривали в реакционности и устраняли. Появился новый тип генералов, пристраивающихся к революционным веяниям. Из усердных слуг старого режима нашлись лакеи революции. Нашелся Брусилов.
Муки, которые перенес простой, честный русский офицер, были ужасны. Его авторитет подрывался, из повиновения вырывали подчиненных ему солдат, против него восстанавливали солдатскую массу, его заставляли угождать толпе, его выставляли врагом народа — плюнули в Душу русского офицера, как сказал Деникин. И среди всех этих унижении, оскорблений, издевательств его же заставляли идти и умирать, и не за родину умирать, а за революцию, ибо клич был: «спасайте революцию». О России не думали. Все оправдание революции было в победе. Все эти мучения, вся эта жестокая несправедливость, вся демагогия могли бы найти себе извинение в победе. Победа и только одна победа могла бы покрыть собой все преступления революции.
Но победы не было. Постыдное бегство развращенной солдатской массы с поля сражения, постыдные картины погромов в Калуге, в Станиславове и в Тарнополе — вот что было концом весенних дней революции, результатом демагогии и демократизации армии. Скажут: «вина падает на большевиков, на их преступную пропаганду». А кто открыл двери перед большевиками? Кто бездействовал, бездействовал даже тогда, когда они открыто поднимали вооруженный мятеж? Кто выпускал их главарей из тюрем? К объяснение кроется не в слабости правительства, а в его лжи. Мы не забыли единый революционный фронт. Мы не забыли, что в правительстве были циммервальдийцы, был Чернов. Большевизм был в недрах русской революции, он уже был налицо, когда Ленин еще и не появлялся в Петрограде. Слова Государя, эти кроткие слова отречения, вот неумолимый приговор над революцией. Тяжким укором должны звучать эти слова для всех, в ком не заглохла человеческая совесть. Вот откуда возникло белое движение. Началась открытая борьба за армию. Генерал Корнилов, верховный главнокомандующий, поставил свои требования. Правительство должно было стать на ту или другую сторону. Назревала необходимость в диктатуре. Но Керенский чувствовал, что не он станет диктатором, что он принужден будет уступить первое место генералу Корнилову. Отсюда уловки, отговорки, оттяжки в принятии решения, переговоры с Корниловым о подавлении вооруженной силой большевистского восстания и страхи потерять власть разрывом с революцией, недостойные приемы разведки, провокации и, наконец, предательство Корнилова.
Керенский торжествовал победу, Керенский верховный главнокомандующий — САМОЕ ТЯЖКОЕ ОСКОРБЛЕНИЕ РУССКОЙ АРМИИ.
Но дни Керенского были сочтены. В первых числах сентября генерал Корнилов был заключен в Быхове, а в последних числах октября Керенский бежал из Зимнего дворца. В быховской тюрьме зародилось белое движение. Оно вытекло из нестерпимой боли заученного в революции русского офицера, из надругательств толпы над нашими лучшими генералами, из предательства русской армии правительством революции.
Петроград сдался большевикам без боя. Никто не встал на защиту правительства Керенского. Арестованные министры, едва не растерзанные на улице толпой, были препровождены в Петропавловскую крепость. Но в Москве большевикам было оказано упорное сопротивление. Во главе встали юнкера Александровского училища, к ним примкнула студенческая молодежь, подростки гимназисты и кадеты. Масса московского населения осталась пассивной, не принимая участия ни на той, ни на другой стороне. Молодежь дралась геройски, но она была всеми предана, и прежде всего своими руководителями: командующим войсками московского округа, ставленником Керенского, городским головой Рудневым и членом правительства Прокоповичем. Они вступили в соглашение с большевиками и прекратили борьбу.
Отмечу один Факт, характерный для социалистической психологии. Прокопович после капитуляции приехал в Александровское училище благодарить юнкеров — за что вы думаете? — за верность временному правительству. Он был встречен свистками и оглушительным криком. Полное непонимание и разрыв социалистических верхов с военной молодежью были причиной неудачи первого опыта вооруженной борьбы в Москве.
После большевистского переворота начинается период борьбы на Дон. Генерал Алексеев в штатском платье, в вагоне у станции Новочеркасск, без копейки денег собирает вокруг себя военную молодежь. У него — двести-триста офицеров и юнкеров. Все они помещаются в одном здании лазарета на Барочной улице. Для их содержания он пишет письма к богатым благотворителям Ростова, для их вооружения выпрашивает винтовки и пулеметы у донского правительства. К в то время, когда старый генерал, нагнувшись в очках над столом, старательно высчитывал каждую копейку расхода, когда бывший верховный главнокомандующий русской армии был погружен в заботу о содержании двухсот юнкеров, он совершал самое большое дело своей жизни. Я говорил, что белое движение зародилось в быховской тюрьме. С именами генералов Корнилова, Деникина, Маркова, Лукомского и других быховских заключенных связано все белое движение. Все они появляются на Дону.
Для подтверждения своей мысли, что в то время не было еще дифференциации верхов, а было единение, Милюков указывает: «Корнилов еще республиканец, Алексеев еще вводит в совет Савинкова». Я не знаю, был ли республиканцем генерал Корнилов, но я знаю, что в то время он был контр-революционером. Генерал Корнилов внушал к себе подозрения и опасения в донских кругах, и его так же, как генералов Деникина, Маркова и других, просили не останавливаться в Новочеркасске. Муть, поднятая революцией, была еще слишком велика. Точно также и генерал Алексеев ввел в совет Савинкова,вовсе не как своего единомышленника, а для того, чтобы обезвредить его, не дать возможности этому честолюбцу портить начинавшееся дело. Факт этот хорошо известен Милюкову. Ни о каком единомыслии говорить, следовательно, не приходится, й генерал Алексеев, и генерал Корнилов были русскими патриотами.Они вели борьбу за армию и не помышляли и не могли в то время помышлять о будущем образе правления в России. Оба они, как патриоты, были контр-революционерами. Я говорил, что патриотические круги были обмануты в революции. Только для одних обман раскрылся уже давно, а другие до сих пор не могут и не хотят понять. Так же, как Милюков не понял ни генерала Корнилова, ни Алексеева, также он не сумел понять значения первого кубанского похода.
Поход трех тысяч в кубанские степи, поход, который вдохнул в армию героический дух, в течение всех трех лет вдохновлявший людей в самой отчаянной, самой удивительной борьбе с ужасом большевизма, поход, который и до сих пор живым воспоминанием подымает на ноги усталых, готовых упасть, этот поход оценивается так: «Под влиянием боевого быта деформируется психология. Создается перевес военного элемента над штатским, связующийся с прямолинейностью, для которой недостаточно понимание тактических мотивов».
Белое движение есть прежде всего военный поход, борьба за армию, а потому в нем должен главенствовать военный элемент. В Кубанском походе все стали рядовыми. Каждый исполнял свой долг. В этом все значение и все величие совершенного подвига. Решимостью и волей Корнилова, его геройской смертью, отвагой генерала Маркова и высоким авторитетом Алексеева люди были сплочены в одно неразрывное целое. Из Ростова вышли партизанские отряды, вернулось на Дон крепкое ядро армии. В борьбе выковались нравственные начала: верность дисциплине, долгу, чести, расшатанные в революции и заново выработанные кровью и подвигом.
И вся задача белого движения в том и заключается, чтобы удержать и сохранить в себе эти крепкие консервативные начала, на которых только и может строиться армия и государство.
После большевистского переворота русской армии не стало; это были бессвязные массы разнузданной солдатчины, громившей, грабившей и с награбленным добром толпами бросившейся расходиться по домам, все опустошая на своем пути.
Армии не стало, не стало и России. Территория бывшей российской империи превратилась в арену борьбы внешних иноземных сил. Немцы, австрийцы, а потом союзники французы, англичане, а на востоке японцы стали распоряжаться и господствовать в пределах бывшего русского царства. Немцы были хозяевами в Москве, так же, как они были хозяевами в Киеве. Под Москвой стоял целый корпус, набранный из германских военнопленных. Граф Мирбах приказывал и распоряжался, большевики, как наемные слуги, беспрекословно исполняли волю Берлина.
Немцы подавляли восстания в Ярославле, в Муроме, Рыбинске и во Владимире, немцы держали в своих руках Москву. На юге австро-германские войска занимали обширную территорию десяти губерний до Ростова на Дону и все Закавказье. Сначала украинская рада, а потом гетман Скоропадский были поставлены в Киеве германскими штыками. Мумм и фельдмаршал Эйхгорн были распорядителями судеб немцами созданной Украины. Какова же была политика союзных держав в это время? «Россия какою угодно ценой должна отвлечь часть неприятеля на себя», — вот что ставят союзники своей задачей, как правильно указывает Милюков. С этой целью союзниками сперва производится попытка сговориться с большевиками, а затем, после Брест—Литовска, у них возникает идея «Восточного внутреннего фронта». Вокруг Москвы подымается ряд восстаний в Ярославле, во Владимире и в других городах. Восстания эти приводят лишь к гибели массы русских офицеров, вовлеченных в безнадежные предприятия в расчете на помощь союзников и расплатившихся своем кровью за чужие ошибки. Одновременно с этим подымается антибольшевистское движение на Волге. Одной из внешних сил, оказавшихся внутри России, был чехословацкий корпус. Организованный из военнопленных еще при царской правительстве, прекрасно снабженный и вооруженный на русские деньги, этот корпус, как вооруженная сила братского славянского народа, мог бы сыграть решающую роль в свержении большевиков, а между тем он сыграл роль самую губительную для белого движения, приведшую к трагическому концу адмирала Колчака. И произошло это потому, что в действиях чехов, так же, как и других союзников, не было желания оказать бескорыстную помощь русскому народу. Руководимый своим социалистическим комитетом, чехословацкий корпус все время удерживался от вмешательства во внутренние русские дела, как будто после Брест-Литовска большевики явно не стали ничем иным, как подсобной силой немцев для завоевания России. Чехословацкий корпус не сам выступил, а был втянут в борьбу благодаря действиям большевиков, давших приказ о его разоружении, и все дальнейшее поведение чехов свелось к тому, чтобы как можно более обогатиться за счет России и выбраться со всем приобретенным через Владивосток за ее пределы. Словом, чехословаки действовали так же, как и другие союзники, преследовали своекорыстные интересы и отказывали в помощи гибнувшей России. Союзники поддерживали восстания на севере и движение на Волге, но помощи добровольческой армии, боровшейся на юге, не оказали никакой.
После поражения германской армии картина сразу меняется. Я помню те дни ликования, когда английский флот, пройдя Дарданеллы, появился в новороссийской бухте. Казалось несомненным, что добровольческая армия, так самоотверженно сохранившая всю верность союзникам, получит столь долгожданную помощь, и наша победа казалась обеспеченной. Престиж союзников — победителей в мировой войне — был так велик, их материальные и боевые средства столь огромны, что самого незначительного усилия с их стороны было бы достаточно, чтобы спасти Россию.
Австро-германские войска, занимавшие юг России, уходили из ее пределов. Огромная территория с сорокамиллионным населением оставалась без всякой вооруженной силы. Было очевидно, что весь юг России будет охвачен анархией и, никем не защищенный, подвергнется вторжению большевиков. Необходимость присылки союзных войск столь ясно сознавалась, что генерал Вертело, главнокомандующий армиями союзников в Румынии, Трансильванни и на юге России, дал обещание двинуть 12 дивизий французских и греческих для занятия Одессы, Севастополя, Киева, Харькова, Донецкого бассейна, Дона и Кубани, чтобы предоставить возможность добровольческой и донской армиям прочнее сорганизоваться и быть свободными для широких активных операций.
29-го октября главнокомандующий союзными силами на востоке генерал Франше д’Еспере писал генералу Эрдели, русскому уполномоченному: «Будьте уверены, что Франция, которая была всегда верна и лояльна союзникам, достойным этого имени, не забудет русских и не оставит добровольческую армию». Как же были выполнены эти обещания? 4-го декабря в Одессе высадился десант французских и греческих войск. В январе были заняты Севастополь, Херсон и. Николаев, но дальнейшее продвижение вглубь было приостановлено. Случилось то, что и должно было случиться. Сперва разбойничьи шайки, а вслед за ними и большевистские, войска наводнили край, захватили Харьков, Екатеринослав, Киев и стали продвигаться к Одессе, Донские казаки, утомленные двенадцатимесячной борьбой, не получая помощи, стали слабеть и отступать под напором свежих большевистских сил. Новочеркасск оказался под угрозой. Напрасно генерал Деникин в ряде обращений к генералу Франше д Эспере, и в Париж, и к маршалу Фошу просил о помощи. Ему не отвечали и даже не сообщали, каковы планы и намерения союзников.
Простояв четыре месяца в Одессе, французские войска бросили город внезапно в последних числах марта. Так закончилась обещанная Францией помощь не оставить своих верных союзников. Одесская катастрофа — вот где кроется главная причина неудачи белого движения на юге России. После того, как намеченный план занятия союзными войсками юга России провалился, перед генералом Деникиным стала задача завоевания всего этого обширного края своими совершенно ничтожными силами. Пятьсот тысяч австро-германских войск поддерживали порядок и охраняли юг России. Добровольческая армия начала наступление, едва ли располагая 40 тысячами штыков и сабель. В ряде боев исключительным напряжением и доблестью добровольцев красные были разбиты. Взяты Харьков, Екатеринослав, Полтава, Курск, Орел Мы могли победить большевиков, но мы не в силах были победить пространство. Тонкая растянутая цепь войск на протяжении огромного фронта не могла выдержать натиска свежих большевистских резервов и одновременно подавить разбойничьи нападения в тылу. Здание, возведенное наскоро ввысь без прочного фундамента естественно рухнуло. Я не стану касаться всей дальнейшей политики союзников. Она хорошо известна: и их политика в Крыму, где она определялась исключительно намерением использовать русскую силу и русскую кровь для своих целей — спасения Варшавы, — и дальнейшее направление их политики и в сторону сближения, соглашения и, наконец, признания большевиков. Да, союзники, их своекорыстная политика погубила белое движение и тем самым погубила Россию.
В оценке этой политики нет двух мнений. Приведу лишь слова Обера, сказанные им на лозаннском процессе: «Разве вы не видите, — говорил Обер, — что моральное падение до потери всякого стыда в Европе заставляет каждого русского, сохранившего человеческую совесть, идти по следам Конради?».
Белград, 1924 г. Н.Н. Львов. (По публикациям журнала «Вестник Первопоходника» N 44)
Источники:
Волков С.В. «Белое движение в России: организационная структура
(Материалы для справочника)»